Главная / Информационный гуманитарный портал «Знание. Понимание. Умение» / №9 2010 – Комплексные исследования: тезаурусный анализ мировой культуры
Луков Вал. А. У истоков тезаурусного подхода: проблема чужака в социологии
УДК 009
Lukov Val. A. The Issues of the Thesaurus Approach: The Problem of the Stranger in Sociology
Аннотация ♦ В статье рассматриваются истоки тезаурусного подхода, который видится, в том числе, в анализе проблемы чужака у Г. Зиммеля, А. Шюца и др.
Ключевые слова: тезаурусный подход, социология, проблема чужака, Г. Зиммель, А. Шюц.
Abstract ♦ The article describes the issues of the thesaurus approach. The author analyzes the problem of the Stranger in Simmel’s and Schuetz’s works.
Keywords: thesaurus approach, sociology, problem of the Stranger, Simmel, Schuetz.
В становлении тезаурусного подхода немалую роль сыграла классическая социология, прежде всего те ее разделы, которые имеют отношение к субъекту, субъектности, к проблемам идентичности и т. д.
Осмысление идентичности как существенного фактора индивидуальной и коллективной жизни в современных научных теориях начинается с осмысления социальной роли чужака Георгом Зиммелем. Разумеется, не он родоначальник темы: ее истоки применительно к европейской культурной традиции могут быть обнаружены по крайней мере в греческой и римской античной литературе, а затем — в разных вариациях — в философской и художественной литературе всех последующих эпох (один из ярких примеров — тема Простодушного у Вольтера). Мы останавливаемся на чужаке в интерпретации Зиммеля, поскольку она, во-первых, во многом предопределила последующие трактовки данной темы в европейской и американской социологии и культурологии (в частности, в феноменологической социологии А. Шюца) и, во-вторых, включена в контекст социально-философских рассуждений, довольно близких к тезаурусному подходу, а в логическом аспекте означающих параллельные поиски оснований социальности и типичного в индивидуальном.
Это второе обстоятельство мы видим в представлении Зиммеля о том, что социальное взаимодействие (а это главная тема его социологии), реализуясь в социальном пространстве, испытывает влияние последнего особым образом: действует не пространство как таковое, а связанные с ним содержания, иначе говоря, содержания зависят от других содержаний[1]. Наша трактовка тезауруса также оказывается в пространственно-временном отношении связанной именно взаимодействием содержаний (представленных в тезаурусных конструкциях).
На этом фоне у Зиммеля и появляется фигура чужака как некая реализация идеи выгороженности (то есть отклонения, соединенного с пространством). Чужак — тот, кто приходит извне, рассчитывая остаться здесь. Он — странник, он независим, он критичен. Его интеллект противостоит традиции (не случайно у Зиммеля чужак олицетворяет модерн с его страстью к деньгам как самоцели, рассудочностью, бесхарактерностью и индивидуализмом)[2].
Некоторые черты так понимаемого чужака обнаруживаются в маргинальном человеке по Роберту Парку. В своем предисловии к книге Э. Стоунквиста[3] Парк трактует маргинального человека как «случайный продукт процесса аккультурации, который неизбежно происходит тогда, когда народы разных культур и разных рас объединяются, дабы вести общую жизнь». В определении маргинального человека, данном Парком, показывается его связь с чужаком: «Маргинальный человек — это личностный тип, который возникает там и тогда, где и когда из конфликта рас и культур рождаются новые общества, народы и культуры. Та же самая судьба, которая обрекает его жить одновременно в двух мирах, принуждает его принять в отношении тех миров, в которых он живет, роль космополита и чужака. На фоне своей культурной среды он неизбежно становится индивидом с более широким кругозором, более тонким интеллектом, более отстраненной и рациональной точкой зрения. Маргинальный человек — это всегда человек сравнительно более цивилизованный»[4]. Такая трактовка маргинального человека (значит, и чужака) дает возможность иначе взглянуть на назначение этой фигуры в социальных практиках повседневности. У Парка и других представителей Чикагской школы это, несомненно, позитивная фигура, что в дальнейшем было утеряно, а маргинал стал рассматриваться как фигура, опасная в своей неукорененности и несоциализированности.
Небезынтересно, что маргинала Парк рассматривает как своего рода мост между двумя культурами: «Маргинальный человек, как он здесь понимается, — это человек, которого судьба обрекла жить в двух обществах и в двух не просто разных, а антагонистичных культурах»[5]. С точки зрения тезаурусного подхода, это исключительно важное наблюдение, к которому мы еще вернемся. Пока же отметим, что применительно к исследованию, проведенному Э. Стоунквистом, Парк подчеркивает значимость следующей идеи (он называет ее фундаментальной идеей): при всем том, что базовыми для личности являются инстинкты, темперамент и эндокринный баланс, она обретает свою окончательную форму под влиянием представления индивида о самом себе. «Представление, которое каждый индивид неизбежно сам о себе формирует, определяется той ролью, которую судьба предназначает ему играть в том или ином обществе, а также мнением и установкой, которые формируют в отношении него в этом обществе другие люди; короче говоря, оно зависит от его социального статуса. Представление индивида о себе является в этом смысле не индивидуальным, а социальным продуктом»[6].
Через осмысление маргинального человека (чужака) Парк приблизился к пониманию решающей роли идентичности в формировании и реализации ведущих личностных черт. Еще более впечатляющие результаты в этом направлении дала постановка фигуры чужака в контекст повседневности, что было осуществлено А. Шюцем и его последователями.
Следует обратить внимание, что круг источников Шюца включает работы представителей Чмкагской школы У. А. Томаса, Ф. Знанецкого, Р. Э. Парка, Э. В. Стоунквиста, Э. С. Богардуса и др. Им он дает очень высокую оценку, как и работам Георга Зиммеля и Роберта Михельса. Специально выделяет Шюц и «замечательную монографию» Маргарет Мэри Вуд «Чужак. Исследование в области социальных отношений»[7]. Иначе говоря, приступая к теме чужака, Шюц основательно освоил результаты и социально-философских, и социологических, и антропологических исследований, выявивших особую социальную роль этого феномена социальной и культурной жизни.
В чем особенности трактовки чужака у Шюца? Рассмотрим его концепцию внимательнее на основе его социально-психологического очерка «Чужак»[8].
Чужак, по Шюцу, — это «взрослый индивид нашего времени и нашей цивилизации, пытающийся добиться постоянного признания или, по крайней мере, терпимого к себе отношения со стороны группы, с которой он сближается» (533). На поверхности при обнаружении чужака лежит, разумеется, иммигрант, но Шюц подчеркивает, что это вовсе не частный социальный тип: «Претендент на вступление в члены закрытого клуба, предполагаемый жених, желающий быть допущенным в семью девушки, сын фермера, поступающий в колледж, обитатель города, поселяющийся в сельской местности, «призывник», уходящий на службу в армию, семья рабочего оборонной отрасли, переезжающая в быстро растущий промышленный город, — все это, согласно только что данному определению, — чужаки…» (533).
Шюц обращается с позиций общей теории интерпретации к типичной ситуации, когда «чужак предпринимает попытку истолковать культурный образец (pattern) социальной группы, с которой он сближается, и сориентироваться в нем» (533). Для разработки тезаурусного подхода этот ракурс исследования особо интересен и составляет параллель представлению о тезаурусе как ориентировочном комплексе. Тем более что и культурный образец Шюцем трактуется как обозначение «всех тех специфических ценностей, институтов и систем ориентации и контроля (таких, как народные обычаи, нравы, законы, привычки, традиции, этикет, манеры поведения), которые, по общему мнению современных социологов, характеризуют — а может быть, даже конституируют — любую социальную группу в тот или иной момент ее исторического существования» (534).
Что же определяет интерпретацию культурных образцов? Ответ на этот вопрос содержится в концептуальном основании шюцевского понимания социального мира и человека в нем. Приведем этот теоретически важный фрагмент из «Чужака»: «… Действующее лицо, пребывающее внутри социального мира, переживает его прежде всего как поле своих актуальных и возможных действий и лишь во вторую очередь как объект своего мышления. Поскольку он заинтересован в знании своего социального мира, он организует это знание, но не в форме научной системы, а исходя из релевантности этого знания для его действий. Он группирует мир вокруг себя (как центра) как область своего господства, и, следовательно, проявляет особый интерес к тому сегменту мира, который находится в его реальной или потенциальной досягаемости. Он вычленяет из него элементы, могущие служить средствами или целями для его «пользы и удовольствия», для решения стоящих перед ним задач и для преодоления возникающих на пути к этому препятствий. Его интерес к этим элементам имеет разную интенсивность, а потому он не стремится знать их все с равной доскональностью. Всё, что ему нужно, это такое дифференцированное знание релевантных элементов, в котором степень желаемого знания коррелировала бы со степенью их релевантности. Иначе говоря, в любой данный момент времени мир видится ему разделенным на разные слои релевантности, каждый из которых требует разной степени знания… знание человека, действующего и думающего в мире своей повседневной жизни, не гомогенно. Оно (1) несвязно, (2) обладает лишь частичной ясностью и (3) вообще не свободно от противоречий» (534–536).
Как видим, в данном теоретическом положении Шюц выходит за пределы даже широко понимаемого чужака (включая жениха или рекрута), он дает обобщенную характеристику бытования знания в повседневности любого человека в самых разных ситуациях. Характеристики знания в норме как несвязанного, лишь частично ясного, противоречивого не просто не совпадают, а явно противостоят рационалистическому пониманию знания как стройной системы главного и второстепенного, общего и частного, доказуемого, логически непротиворечивого, эмпирически подтверждаемого и т. д.
Приведем аргументацию Шюца относительно трех выделенных характеристик знания, применяемого индивидом в сфере повседневности.
Наличие первого признака — несвязности знания — Шюц объясняет тем, что сами интересы индивида не составляют связанной системы, и это не может не сказываться на отборе объектов для последующих действий. Эти объекты «организованы лишь частично — в соответствии со всякого рода планами, такими как жизненные планы, трудовые планы и планы проведения досуга, планы, связанные с каждой из принимаемых социальных ролей. Однако с изменением ситуации и развитием личности иерархия этих планов меняется; интересы постоянно перемещаются с одного на другое, и это влечет за собой непрерывное изменение в форме и плотности линий релевантности. При этом изменяется не только отбор объектов интереса, но и требуемая степень их знания» (536).
Второй признак — частичная ясность знания — осмысливается Шюцем как избирательная заинтересованность человека в полном понимании связей между элементами своего мира и тех общих принципов, которые этими связями управляют. «Более того, он вообще не стремится к истине и не требует определенности. Все, что ему нужно, — это информация о вероятности и понимание тех шансов и рисков, которые привносятся наличной ситуацией в будущий результат его действий… Если в силу какого-то особого интереса он нуждается в более отчетливом знании по какой-то теме, заботливая современная цивилизация держит для него наготове целую сеть справочных бюро и библиотечных каталогов» (536).
Третий признак — отсутствие внутренней согласованности знания. По Шюцу, человек «может одновременно считать одинаково верными фактически несовместимые друг с другом утверждения. Как отец, гражданин, служащий и член своей церковной конгрегации он может иметь самые разные и сколь угодно не совпадающие друг с другом мнения по нравственным, политическим или экономическим вопросам. Эта несогласованность не обязательно следствие какой-то логической ошибки. Просто человеческая мысль вовлекает в сферу своего внимания содержания, расположенные на различных и имеющих разную релевантность уровнях, и люди не сознают те модификации, которые происходят с этими содержаниями при переходе с одного уровня на другой» (537).
Шюц подытоживает свою аргументацию фундаментальным выводом: «Получающаяся таким образом система знания — несвязная, несогласованная и лишь частично ясная — принимает для членов мы-группы видимость связности, ясности и согласованности, достаточную для того, чтобы давать каждому резонный шанс понимать и быть понятым. Каждый член, рожденный или воспитанный в группе, принимает заранее готовую стандартизированную схему культурного образца, вручаемую ему предками, учителями и авторитетами, как не подвергаемое и не подлежащее сомнению руководство для всех ситуаций, обычно возникающих в социальном мире. Знание, соответствующее культурному образцу, само себя доказывает или, точнее, принимается как само собой разумеющееся до тех пор, пока не доказано противоположное. Это знание заслуживающих доверие рецептов интерпретации социального мира, а также обращения с вещами и людьми, позволяющее, избегая нежелательных последствий, достигать в любой ситуации минимальными усилиями наилучших результатов. С одной стороны, рецепт функционирует как предписание к действию и, стало быть, служит схемой самовыражения: каждый, желающий достичь определенного результата, должен действовать так, как указано в рецепте, предусмотренном для достижения данной цели. С другой стороны, рецепт служит схемой интерпретации: предполагается, что каждый, действующий указанным в рецепте способом, ориентирован на получение соответствующего результата. Таким образом, функция культурного образца состоит в избавлении от обременительных исследований за счет предоставления заранее готовых инструкций, замене труднодоступных истин комфортабельными трюизмами и замене проблематичного само-собой-понятным» (537–538).
К моменту написания «Чужака» подобные идеи были высказаны Максом Шелером (обосновавшим понятие «относительно естественного мировоззрения»), Робертом С. Линдом («дух Среднего города»), Уильямом А. Томасом («поток привычки») и др., на них ссылается Шюц, характеризуя описываемое им «мышление-как-обычно». Оно актуально для человека, пока не подвергаются сомнению некоторые фундаментальные допущения, а именно: «(1) что жизнь, особенно социальная жизнь, будет продолжать оставаться такой же, какой она была до сих пор; или, иначе говоря, что в будущем будут постоянно повторяться те же самые проблемы, требующие тех же самых решений, и, следовательно, нашего прежнего опыта будет вполне достаточно, чтобы справляться с будущими ситуациями; (2) что мы можем полагаться на знание, переданное нам нашими родителями, учителями, властями, традициями, привычками и т.д., даже если не понимаем его происхождения и реального значения; (3) что в обыденном течении дел достаточно знать об общем типе, или стиле событий, с которыми мы можем столкнуться в нашем жизненном мире, чтобы справляться с ними или удерживать их под своим контролем; и (4) что ни системы рецептов, служащие схемами интерпретации и самовыражения, ни лежащие в их основе базисные допущения, только что нами упомянутые, не являются нашим частным делом, а принимаются и применяются аналогичным образом нашими собратьями» (538).
Именно это утверждение позволяет Шюцу вновь вернуться к теме чужака, поскольку в силу своего личностного кризиса чужак не разделяет базисных допущений, лежащих в основе «мышления-как-обычно».
В плане теоретических параллелей тезаурусному подходу чрезвычайно значимым является следующее утверждение А. Шюца: «Открытие того, что все в новом окружении выглядит совершенно иначе, нежели он ожидал, когда находился дома, часто наносит первый удар по уверенности чужака в надежности его привычки «мыслить как обычно». Обесценивается не только картина, которую чужак ранее сформировал о культурном образце неродной группы, но и вся до сих пор не ставившаяся под сомнение схема интерпретации, имеющая хождение в его родной группе. В новом социальном окружении ею невозможно воспользоваться как схемой ориентации. Для членов группы, с которой он сближается, функции такой схемы выполняет их культурный образец. Однако сближающийся с этой группой чужак не может ни воспользоваться им в готовом виде, ни вывести общую формулу преобразования для двух культурных образцов, которая бы позволила ему, образно говоря, перевести все координаты своей схемы ориентации в координаты, которые были бы действенными в другой» (541).
Шюц в поддержку выдвинутого тезиса приводит два главных аргумента: «Во-первых, любая схема ориентации предполагает, что каждый, кто ею пользуется, смотрит на окружающий мир как на мир, сгруппированный вокруг него самого, находящегося в его центре… только члены мы-группы, имеющие определенный статус в ее иерархии и, кроме того, сознающие его, могут использовать ее культурный образец как естественную и заслуживающую доверия схему ориентации. Чужак, в свою очередь, неизбежно сталкивается с тем, что у него нет в социальной группе, к которой он намерен присоединиться, никакого статуса, а следовательно, нет и исходной точки, отталкиваясь от которой он мог бы определить свои координаты… Во-вторых, культурный образец и его рецепты образуют единое целое, соединяющее в себе совпадающие схемы интерпретации и самовыражения, только для членов мы-группы. Для аутсайдера же это кажущееся единство распадается на осколки» (541–542).
В итоге только после того, как чужак накопит некоторое знание, позволяющее интерпретировать новый культурный образец, для него возникнет возможность принимать его как схему собственного самовыражения. Иными словами — пройдет процесс социализации в новой социальной группе.
«Применяя все это к культурному образцу групповой жизни в целом, можно сказать, что член мы-группы схватывает с одного взгляда нормальные социальные ситуации, в которые он попадает, и немедленно вылавливает готовый рецепт, подходящий для решения наличной проблемы. Его действия в этих ситуациях демонстрируют все признаки привычности, автоматизма и полуосознанности. Это становится возможным благодаря тому, что культурный образец обеспечивает своими рецептами типичные решения типичных проблем, доступные для типичных действующих лиц», — подчеркивает Альфред Шюц (544).
Итак, рассмотрение частной проблемы чужака позволило Шюцу дать стройную концепцию знаниевых оснований повседневной жизни людей, которая фиксирует важнейшие для социологического мышления понятия нормы и отклонения, адаптации, интериоризации культурных образцов, разделения своих и чужих. Простота и очевидность предложенной интерпретации социально типического, механизмов ориентации в социальном пространстве, черт чужака (объективность и сомнительная лояльность), преодоления маргинального положения чужака при освоении не столько новой информации, сколько интерпретационных схем создали почву для быстрого распространения идей Шюца в мировой социологии, рождения целого ряда развивающих его идеи теорий, включая наиболее значимую из них — теорию социального конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] См.: Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М. : Наука, 1994. С. 57–58.
[2] См.: Там же. С. 60.
[3] См.: Park R. E. Introduction // Stonequist E. V. The Marginal Man. N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1937. P. XIII–XVIII. Стоунквист развил в социально-психологическом ключе идеи Парка, изложенные им, в частности, в статье: Park R. E. Human Migration and the Marginal Man // American Journal of Sociology. 1928. Vol. 33. No. 6.
[4] Park R. E. Introduction. Op. cit. P. XIII.
[5] Ibid. Заметим, что последующие попытки сузить понятие маргинального человека и предложить такие его характеристики, как существование на границе двух культур от рождения, связь с группой таких же, причем данная группа осуществляет институциированную деятельность, отсутствие фрустрации и блокировки ожиданий и потребностей у того, кто находится в маргинальном положении (Goldberg M. A. Qualification of the Marginal Theory // American Sociological Review. 1941. Vol. 6. No. 1), несущественны для тезаурусной концепции. Напротив, именно широкое толкование маргинальности Парком позволяет увидеть специфическое сочетание тезаурусных конструкций в тех или иных ситуациях культурных различий и конфликтов.
[6] Park R. E. Introduction. Op. cit.
[7] См.: Wood М. М. The Stranger: A Study in Social Relationship. N. Y., 1934.
[8] Schutz A. The Stranger: An Essay in Social Psychology // American Journal of Sociology. 1944. Vol. 49. No. 6. P. 499–507. Цитаты из статьи (с указанием страницы) даются в переводе В. Г. Николаева по изданию: Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / пер. с нем. и англ.; сост. Н. М. Смирнова. М. : Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 533–549.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Очерки по истории теоретической социологии XX столетия. М. : Наука, 1994.
Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / пер. с нем. и англ. ; сост. Н. М. Смирнова. М. : Рос. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2004.
Goldberg M. A. Qualification of the Marginal Theory // American Sociological Review. 1941. Vol. 6. No. 1.
Park R. E. Introduction // Stonequist E. V. The Marginal Man. N. Y. : Charles Scribner's Sons, 1937.
Park R. E. Human Migration and the Marginal Man // American Journal of Sociology. 1928. Vol. 33. No. 6.
Schutz A. The Stranger: An Essay in Social Psychology // American Journal of Sociology. 1944. Vol. 49. No. 6. P. 499–507.
Wood М. М. The Stranger: A Study in Social Relationship. N. Y., 1934.
Луков Валерий Андреевич — доктор философских наук, профессор, проректор Московского гуманитарного университета по научной и издательской работе — директор Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик-секретарь РС МАН (IAS, Инсбрук), академик МАНПО, почетный профессор МосГУ. Тел.: +7 (499) 374-70-20.
Lukov Valery Andreevich, Pro-rector, Moscow University for the Humanities (MosUH), Director, Institute of Fundamental and Applied Studies of MosUH, Doctor of Philosophy, Professor; Academician-secretary, International Academy of Science (IAS), honoured scientist of the Russian Federation. Tel.: +7 (499) 374-70-20.
E-mail:
v-lukov@list.ru
 |
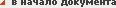 |
|
|
 Вышел в свет
Вышел в свет
№4 журнала за 2021 г.
|
|
|
|